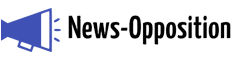3 сентября 72-летние Си Цзиньпин и Владимир Путин перед военным парадом в Пекине обсудили возможность увеличения продолжительности жизни с помощью современных технологий — разговор политиков случайно попал в видеохронику мероприятия (что позднее вызвало протесты китайской стороны). Председатель КНР через переводчика заявил: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сегодня говорят, что в 70 лет ты все еще ребенок». Путин на это ответил: «Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать, и люди могут чувствовать себя все моложе и моложе и даже достичь бессмертия». Си Цзиньпин, в свою очередь, добавил: «Прогнозы показывают, что в этом веке есть шанс дожить и до 150 лет». «Медуза» решила разобрать, на какие источники данных могли опираться китайский и российский лидеры в своих высказываниях — и почему их слова пока все же вызывают скепсис.
«Медуза» в беде: сегодня нам очень нужна ваша помощь — чтобы просто продолжить работу. Если вы находитесь не в России и не планируете поездок в страну, пожалуйста, поддержите нас.
You can read this story in English here.
Си Цзиньпин: «Прогнозы показывают, что в этом веке есть шанс дожить и до 150 лет». Так ли это на самом деле?
Эту цитату Си Цзиньпиня можно прочитать по-разному: как утверждение либо о том, что такие прогнозы существуют, либо о том, что человек действительно может дожить до 150 лет.
Первый тезис безусловно верен — такие прогнозы существуют. С момента, когда средняя продолжительность жизни в XX веке начала наглядно расти, предсказания того, что в будущем люди будут доживать до 100, 150, 200 (и других круглых чисел) появляются регулярно — и иногда даже исходят от ученых.
Например, в 2000 году с подобным прогнозом выступил американский биолог Стивен Остад. Он предсказал, что многие дети, родившиеся в самом начале 2000-х и живущие на момент прогноза, смогут дожить до 2150 года. Прогноз сначала появился в журнале Scientific American, а затем стал предметом спора между Остадом и известным специалистом по демографии Джеем Ольшанским. Последний с таким предсказанием категорически не согласился.
Спор между учеными был оформлен документально. Проигравшая сторона обязалась выплатить 150 долларов победившей. Точнее, ее наследникам, так как надежды на то, что хотя бы один из спорщиков лично доживет до решающего 2150 года, не было. В 2016 году ставки были повышены до 600 долларов. Эту сумму ученые вложили в один из инвестиционных фондов. И на фоне роста фондового рынка журнал Nature предсказывал, что к моменту разрешения спора стоимость активов, купленных на эту сумму, может превысить сотни миллионов долларов. Есть только один способ узнать, кто станет победителем и какую сумму на самом деле получит, — но для этого придется подождать еще более века.
Выпуск подкаста «Что случилось», посвященный беседе Путина и Си Цзиньпина
подкастыПутин и Си думают о продлении жизни и считают, что ее срок может достигать 150 лет. А как на это смотрит наука?
Описанный случай стал, наверное, самым буквальным выражением непримиримых дискуссий вокруг возможности радикального продления жизни, где четко упоминается отметка именно в 150 лет. Конечно, это был не первый и не последний спор такого рода. Но если сегодня попытаться найти источники подобных прогнозов, то скорее всего вы натолкнетесь не на историю давней полемики Остада-Ольшанского, а на исследование, описанное в статье, вышедшей в 2021 году в журнале Nature Communications. Поскольку в момент публикации содержание материала пересказали сотни изданий (в том числе и самые известные научно-популярные журналы), а сейчас ссылки на работу находятся и в «Википедии», и в официальных документах, можно обоснованно предположить, что слова Си Цзиньпина относятся именно к этой работе.
По крайней мере, в этом уверены ее авторы. Это группа ученых российского происхождения во главе с физиком Петром Федичевым, довольно известным человеком в среде российских энтузиастов продления жизни. Федичев вместе с некоторыми коллегами основал сингапурский стартап Gero, миссию которого команда формулирует как «устранение коренных причин возрастных заболеваний путем разработки лекарственных препаратов, которые подходят к лечению старения как системного сбоя, а не неизбежной судьбы».
В своей статье в Nature Communications авторы действительно подходят к старению как к «системному сбою» — то есть нарушению работы организма как системы. В такой форме содержание работы звучит максимально абстрактно, но главное, что в статье действительно упоминается отсечка в 150 лет, которая прямо обозначается учеными как абсолютный предел человеческой жизни. В самой статье речь идет об интервале в 120-150 лет. Но СМИ, пересказывавшие материал, конечно, опустили эту подробность, оставив лишь верхнюю границу этого довольно длинного отрезка.
Суть статьи Федичева и соавторов сложно пересказать без искажения смысла, но на базовом уровне она заключается в том, чтобы рассматривать старение как статистический процесс (это подход, пришедший из термодинамики — близкой авторам области). В ходе этого статистического, случайного процесса на организм воздействует внешняя среда: инфекции, травмы, внутренние болезни, которые авторы тоже рассматривают как составную часть общего набора источников стресса, с которым приходится иметь дело любому организму. Организм отвечает на такие стрессовые воздействия саморегуляцией, чтобы вернуться в исходное, нормальное состояние. До какого-то момента ему это успешно удается, но — и в этом главное содержание статьи — со временем период возвращения в норму становится все более долгим, и в какой-то момент система неизбежно теряет устойчивость и распадается.
Этот момент, как утверждают авторы, и ограничивает способность человека жить дольше. И наступает он где-то в районе 120-150 лет. Это конкретное значение «предельного возраста» рассчитано авторами на основе анализа всего двух наборов данных, полученных из третьих источников: это показатели общего анализа крови, собранные в рамках проекта UK Biobank, и данные о физической активности примерно двух тысяч человек, собранные с помощью фитнес-трекеров в рамках отдельного проекта. В обоих случаях Федичев и соавторы не получали данные сами и не вдавались в подробности того, как и почему происходят изменения в показаниях для каждого конкретного участника исследования. Они просто статистически анализируют то, как и с какой скоростью организм возвращается (или не возвращается) в «норму».
В статье авторы не предлагают определенного метода увеличить продолжительность жизни и не заявляют о том, что люди действительно могут жить до 150 лет. Главное, что утверждается прямо, — это существование предела устойчивости человеческого (да и любого другого) организма. Кроме того, в выводах авторы однозначно подчеркивают, что фокус на лечении конкретных заболеваний, который сейчас доминирует в доказательной медицине, не позволит радикально увеличить продолжительность жизни:
Близость критической точки, выявленной в данной работе, указывает на то, что явный предел продолжительности жизни человека вряд ли может быть увеличен с помощью терапии, направленной на лечение конкретных хронических заболеваний.
Без остановки процесса старения, являющегося основной причиной потери жизнестойкости, невозможно добиться значительного увеличения максимальной продолжительности путем профилактики или лечения конкретных заболеваний.
Другими словами, по мнению авторов, приоритезировать (и финансировать) нужно не создание лекарств от конкретных болезней, а исследования старения — подобные тому, что сделали они сами.
Путин: «Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать, и люди могут чувствовать себя все моложе и моложе и даже достичь бессмертия». Так ли это на самом деле?
Трансплантация органов и тканей действительно позволяет продлевать жизнь конкретных людей — и, как следствие, влиять на среднюю продолжительность жизни. Глупо отрицать и то, что биотехнологии способны принципиально изменить доступность трансплантации. И речь не только о выращивании органов в лаборатории или в специальных организмах (например, в теле генетически модифицированных свиней), но и о клеточной терапии, то есть пересадке не органов, а клеток (например, способных бороться с онкологическими заболеваниями).
Однако все надежды на то, что трансплантация поможет доживать до 150 лет, упираются в простую статистику: в развитых странах главными причинами смертей после 65 являются сердечно-сосудистые (35%) и онкологические (21%) заболевания. Чтобы хоть сколько-то значимая доля людей могла доживать до 150, потребуется полностью победить и рак, и инфаркты, и инсульты.
Вполне можно представить, как в недалеком будущем сердце или другой простой орган превратится в расходный материал, искусственно выращиваемый в лабораториях, пересадку которого можно делать много раз в течение жизни. Но очень сложно допустить, что когда-либо трансплантологи смогут пересаживать человеку всю сосудистую систему — место возникновения атеросклерозных бляшек, одной из главных причин смертности.
Еще сложнее понять, как трансплантация сможет победить рак. На протяжении как минимум трех последних десятилетий весь мир (прежде всего США и Европа) тратил огромные средства на разработку технологий лечения онкологических заболеваний. И хотя по сравнению с ситуацией середины 1980-х в этом направлении достигнуты колоссальные успехи, ни о какой «победе над раком» пока говорить не приходится.
Наконец, все эти справедливые аргументы теряются на фоне того, что одной из важных причин смертности в пожилом возрасте остаются нейродегенеративные заболевания вроде болезни Альцгеймера или болезни Паркинсона. Ни та ни другая до сих пор не поддаются лечению, несмотря на огромные усилия, которые вкладывают в их изучение ученые (здесь можно прочитать подробнее про историю безуспешных попыток разработки терапии). Сложно представить, как пересадка органов могла бы помочь при этих и других заболеваниях нервной системы.
И все-таки, могут ли люди жить радикально дольше, чем живут сейчас?
Мы не знаем. Никаких законов природы, запрещающих людям жить 150 лет и дольше, не существует. В этом смысле утверждение о том, что «человек может дожить до 150 лет», принципиально отличается от тезисов вроде «вечный двигатель может быть изобретен» или «путешествия быстрее скорости света возможны». В конце концов, известно, что рекордсмен среди млекопитающих, гренландский кит Balaena mysticetus, способен прожить не менее 211 лет — а это почти в два раза дольше, чем рекордсменка среди людей Жанна Кальман, которой удалось прожить 122 года.
Однако есть ряд фактов, которые делают такой прогноз не то чтобы невероятным (о вероятности говорить нельзя, если нет множества случайных событий), но очень сомнительным. Особенно если ограничиться перспективой текущего столетия, обозначенной Си Цзиньпином.
- Онкологические заболевания, как сказано выше, отвечают примерно за 20% смертей в развитых странах, а общего, универсального способа их лечения не существует.
- Смертность от подавляющего большинства онкологических заболеваний резко растет с возрастом, что объясняется накоплением в организме мутаций и истощением потенциала иммунной системы. Системное воздействие на оба фактора потенциально могло бы замедлить старение и существенно продлить среднюю продолжительность жизни. Но возможно ли изобрести такую терапию к концу столетия — неизвестно.
- Существующие проекты продления жизни модельных животных пока не принесли значимых результатов. Например, существует программа, курируемая Национальным институтом старения США, в рамках которой любые ученые могут предложить любое вещество как потенциальный геропротектор и испытать его в строго контролируемых условиях на специальной линии мышей. На сегодня в программе поучаствовало 50 соединений, из которых лишь 12 значимо увеличили длину жизни грызунов — но не более чем на 15%. Даже если эти результаты могут быть в полной мере перенесены на людей (что едва ли возможно), этого недостаточно, чтобы значительная часть людей доживала до 150-ти.
- В три десятилетия, предшествовавшие пандемии коронавируса (с 1990 по 2019 годы), ожидаемая продолжительность жизни в самых долгоживущих странах значительно выросла. В среднем прирост составил около 80 дополнительных дней на календарный год — что, вообще говоря, очень много, если вспомнить о тысячелетиях человеческой истории, когда этот показатель почти не менялся вовсе. Даже в странах с рекордно старым населением, таких как Япония, ожидаемая продолжительность в последнее время росла.
- Из этого можно было бы сделать вывод, что к концу XXI века продолжительность жизни может вырасти так сильно, что многие действительно будут доживать до 150 лет. Но недавние демографические исследования (сделанные, например, под руководством упоминавшегося выше Джея Ольшанского) показывают, что это не так.
- Скорость прироста дополнительных лет жизни в самых развитых странах значительно упала и практически вышла на плато. Грубо говоря, сейчас большая доля людей доживает до старости, но это не ведет к тому, чтобы те, кто ее уже достиг, жили существенно дольше. В результате увеличивать среднюю продолжительность жизни в этих странах становится все сложнее.
- Например, в Японии — стране с самой большой ожидаемой продолжительностью жизни (ОПЖ) как среди мужчин, так и среди женщин, — для увеличения этого показателя всего на год (например, до 89 лет у женщин) требуется уменьшить общую смертность ото всех причин во всех возрастах на целых 20 процентов. Не всякое лекарство дает столь значительный вклад в снижение смертности. Ожидать, что общая смертность в этом столетии может быть уменьшена коллективными усилиями медиков гораздо больше, чем на 20 процентов, что сдвинуло бы ОПЖ до 100 лет, очень сложно.
- Сложно, но не принципиально невозможно: авторы упомянутого выше исследования, хотя и приходят к выводу о том, что радикальное продление жизни вряд ли возможно в этом столетии, все-таки оставляют лазейку для тех, кто надеется жить до 150-ти. Она сводится к изобретению веществ, влияющих на старение как системный процесс. Порог долголетия, которого позволила достичь современная медицина, может быть преодолен — но «только в случае, если будут изобретены геропротекторы, способные замедлить биологическое старение». Пока, как показывают опыты на мышах, эта задача далека от решения.
Отдел «Разбор»